|
|
АННЕ КАЛАНДАДЗЕ
К 50-летию поэтессы.
Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о
торжественном дне ее рождения, но прежде
— о былом, о скромном дне рождения
цветов миндаля на склонах Мтацминды, о
марте, бывшем давно. Какая весна
затевалась! Я проснулась поутру, потому
что дети в доме напротив, во множестве
усевшись на подоконник, играли в зеркало
и в солнце и посылали огонь в мое окно,
радио гремело: «У любви, как у пташки, крылья...» Начинался день,
ведущий к Анне, ослики по дороге во
Мцхету кричали о весне, и сколько же там
было анемонов! А у Симона Чиковани, у
совершенно живого, невредимого,
острозрячего Симона, дача была
неподалеку—что за дача: дома нет, зато
земли и неба в избытке, за рекой, на горе,
четко видны развалины стройных древних
камней, и виноградник уже очнулся от
зимней спячки, уже хлопотал о незримом
изначалье вина. Люди, оснащенные высшим
даром, имеют свойство дарить нам себя и
других. Сиял день весны, Симон был жив и
здоров, но подарки еще не иссякли, и
Симон восклицал: «Кацо, ты не знаешь Анны,
но ты узнаешь: Анна—прекрасна!» К вечеру
я уже знала, что Анна —прекрасна,
большой поэт, и ее язык, собственный,
ведомый только ей, не меньше всего
грузинского языка по объему и прелести
звучания. На крайнем исходе дня пришла
маленькая Анна, маленькая, говорю,
потому, что облик ее поразил и растрогал
меня хрупкостью очертаний, серьезнейшей
скромностью и тишиной—о, такие не
суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и
не совершают лишних поступков.
Потом, в Москве, в счастливом уединении,
я переводила стихотворения Анны
Каландадзе, составившие ее первую
русскую книгу—совсем маленькую,
изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна,—я
наслаждалась. В тесной комнате с
зелеными обоями плыли облака Хетты,
Мидии, Урарту, боя-| рышник шелестел,
витали имена земли: Бетания, Шиомгвиме, Орцхали... Анна была очевидна и
воздушно чиста, и сколько Грузии
сосредоточенно и свободно помещено в
Анне! Ее страсть к родимой речи,
побуждающая к стихосложению и
специальным филологическим занятиям,
все еще не утолена, склоняет ее к мучению,
а нам обещает блаженство. Анна, когда
живет и пишет, часто принимает себя за
растения земли: за травинку, за веточку
чинары, за соцветие магнолии, за безымянный
стебелек. Что ж, она, видимо, из них, из
чистейших земных прорастаний, не
знающих зла и корысти, имеющих в виду
лишь зеленеть на благо глазам, даже под
небрежной ногой незоркого прохожего, —
лишь зеленеть победно и милосердно.
Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в
Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком
фиалок—думайте, что метафора, мне все
равно, но Анна и цветок по имени «иа»
были в явном родстве и трудно отличимы
друг от друга.
Да, я переводила Анну и наслаждалась,
но и тогда предугадывала, а теперь знаю,
что не могла соотноситься на равных с
поэтом, о котором пекусь всей душой: я
была моложе и я была—хуже. Но много лет
прошло, и я еще улучшусь, Анна, я вернусь
к Вашим стихам, чтобы, лишенные
первоначальной сути, они не
сиротствовали в чужом языке, в моем
родном языке, а славно и нежно звучали.
До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю,
поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси—за
себя, за Симона, за Гоглу, и примите в
обратный дар строку Вашего
стихотворения:
«Мравалжамиер, многие лета!»
 СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...
СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...
Стихотворение, подлежащее переводу,
проживает сложную, трехкратную жизнь.
Оно полнокровно существует на родном
языке и потом как будто умирает в
подстрочнике. Лишенное прежней
стройности и музыки, оно кажется немым,
бездыханным. И это — самый опасный,
самый тревожный момент в судьбе
стихотворения. Как поступит с ним
переводчик? Сумеет ли он воскресить его,
даровать ему новую жизнь, не менее щедрую и звучную,
или так и оставит его неодушевленным?
Мне всегда казалось, что в подстрочном
переводе есть что-то обнаженное,
беззащитное. Он—дитя, оставленное без
родительского присмотра. Теперь от
переводчика, человека постороннего,
зависит: усыновить ли это дитя, вдохнуть
ли в него всю свою нежность и заботу, или
так и оставить его убогой сиротой в
чужом языке.
Поэтому я думаю, что перевод—это
проявление огромного доверия двух
поэтов, где один из них приобщает
другого к своей сокровенной тайне. И
тому, другому, нужно иметь много
деликатности, проницательности и
фантазии, чтобы по контурам
подстрочника восстановить
действительный облик стихотворения,
подобно тому, как ученый
восстанавливает по черепу черты
прекрасного древнего лица.
Вероятно, смысл перевода сводится к
одному — переведенное стихотворение
должно стать не смутным намеком на его
первоначальные достоинства, а
полноправным участником другой поэзии,
праздником другого языка.
Но все это — очевидно, и спор возникает
только вокруг пределов точности, не
установленных до сих пор.
Мне хотелось бы сослаться на свою
работу над переводами грузинских поэтов
— не потому, что я считаю ее
поучительным примером, а просто потому,
что в ней я осведомлена больше, чем в
какой-либо другой, может быть более
удачной.
Должна признаться, что я никогда не
старалась соблюдать внешние приметы
стихотворения: размер, способ рифмовки
— исходя при этом из той истины, что
законы звучания на всех языках различны.
Полная любви и участия к доверенным мне
стихам, я желала им только одного— чтобы
они стали современными русскими стихами,
близкими современному русскому
читателю.
Пытаясь сохранить нежную, сбивчивую,
трепетную речь Анны Каландадзе,
прекрасную странность ее оборотов, я
часто прибегала к свободным,
необременительным размерам. Я брала за
основу строки подлинника, цельность которых
не имела права нарушить: «О, есть что-то,
безмерно заставляющее задуматься...», «Я
слечу на твои синие ветки, сирень...»—и
приспосабливала к ним все стихотворение.
Кроме того, этим замедленным ритмом мне
хотелось подчеркнуть задумчивость,
сердечную рассеянность поэтессы,
необыкновенную привольность ее души. И
напротив, напряжение острого чувства,
патриотического, любовного, я пробовала
передать короткой, напористой строкой,
отчетливыми рифмами.
Я точно повторяла вслед за Каландадзе
все географические названия в их
подборе — тоже качество ее поэтического
характера, ее страстная привязанность к
Грузии.
Иногда, увлекаясь стихотворением, я
позволяла себе некоторую свободу — но
для того только, чтобы компенсировать
потери, обязательные при переводе на
другой язык.
Для грузинского читателя не секрет,
что в прекрасном стихотворении Симона
Чиковани «По пути в Сванетию» нет строк,
впоследствии появившихся в переводе: «Теперь
и сам я думаю—ужели по той дороге,
странник и чудак, я проходил...» Но не
думаю, чтобы этим определением— «странник
и чудак», выбранным по собственной воле,
я обманула русского читателя—я хотела
еще раз напомнить ему о том, как
причудлив, капризен внутренний мир
этого поэта.
Мне пришлось несколько упростить
стихотворение «Девять дубов», чтобы
сделать его доступным русскому
воображению, не испытывающему
благоговения перед таинственной цифрой
девять, плохо осведомленному в повадках
дэвов.
Чтобы читатель не был строг к
замысловатым образам стихотворения, не спрашивал с них
строгой реальности, ввела в конце строки,
намекающие на восточную сказоность, на
волшебство, открытое поэту: «В глаза
чудес, ис- полненные света, всю жизнь
смотрел я, не устав смотреть».
Я думаю, что иногда переводчик волен
опустить те или иные детали, имея в виду
не только разницу языков, но и разницу в
поэтической психологии, в кругу образов
различных народов.
В стихотворении Чиковани «Задуманное
поведай облакам» есть строки: «Красотой
своей ты наполнила кисет моей души...»
Полностью доверяя поэту, мне очень
дорогому, я ни минуты не сомневалась,
что по-грузински этот образ поэтичен
и закономерен. Но в дословном переводе на
русский язык он звучит грубо, почти
вульгарно, и я попыталась обойтись без
него, тем более, что очарование женщины и
чувство поэта и так были очевидны.
Таким образом, автору угрожают две
опасности со стороны переводчика, две
свободы: преувеличение или
преуменьшение. Мне кажется, в интересах
стихотворения и то и другое в какой-то
мере допустимо. И вряд ли удастся точно
установить, математически вычислить—в
какой именно мере. Вероятно, определить
это может только caм поэт, в одном случае
поступая так, в другом — иначе. Достоверным кажется мне только одно—свобода
переводчика возможна до тех пор, пока она
не наносит ущерба свободе автора. При
переводе должны оставаться неприкосновенными весь внутренний мир
поэта, лад его мышления и существенные
конкретные детали поэтического
материала. Так, было бы грешно, да и не
нужно, изменить эти, например, точные
строки Чиковани: «А после—шаль висела у огня...», «Колени я укрепил ходьбою...», «Изогнутою,
около Двуречья тебя увидеть захотел я
вдруг...» В них и поэтическая мысль, и
заведомое русское звучание настолько полноценны, что нет нужды их
переиначивать. Это тот случай, когда
грузинская грамматика обогащает
русский текст. Я надеюсь, что
стихотворение «Олени в гумне» обладает
самостоятельным русским звучанием, и
все же, конечно, это совершенно
грузинское стихотворение—не только из-за
отраженной в нем географии, но и из-за
такого, например, странного на первый
взгляд, прекрасного, грузинского
образного поворота: «И вдруг, подобная
фазану, невеста вышла на крыльцо...» И,
наверно, переводчик должен быть очень
бережен к этим проявлениям щедрого
национального своеобразия.
Невольно присоединившись к дискуссии,
я, кажется, не возразила ни той, ни другой
стороне. Я просто хотела поделиться с
товарищами по делу перевода некоторыми
соображениями и подтвердить мое
глубокое пристрастие к грузинской
поэзии, давшей мне много радости.
 ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА
ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА
БУДЕТ СО МНОЙ
Стенограмма выступления 15 марта 1962 г.
Мне бы тоже изложить мою точку зрения
на дело художественного перевода, но у
меня нет точки зрения, а есть зрение. У
меня есть руки, которыми я пишу, есть мое
сердце, при помощи которого я работаю, и
дальше я пойти не могу.
Здесь много говорили о том, как следует
переводить. Это полезно, это поучительно,
и я все-таки не знаю, как надо переводить.
Если бы мы знали, было бы больше
прекрасных переводов Галактиона
Табидзе и других.
Я еще хочу сослаться на обязательный
момент—деловитость. Будем
рассматривать наши совещания не только
как программу работы Союза писателей,
как мероприятие нашей общественной
жизни, но подумаем, что привело нас
друг к другу, что влечет нас
встречаться и говорить об одном и том же.
Я имею в виду искусство, то, что всегда
сближает нас, а кроме этого у нас нет
ничего.
Я рассматриваю перевод, как любовь
одного человека к другому. Я так говорю
не только потому, что мне довелось
любить поэтов, которых я переводила, что
через стихи Симона Чиковани, Анны
Каландадзе я видела их облик, а потому,
что я бесконечно доверяла им как поэтам
и очень любила их.
Здесь говорили о подстрочниках.
Наверное, жестокие слова, сказанные о
подстрочнике, очень справедливы, но я
думаю, что мы можем не признаваться друг
другу в том, каким образом работали.
Давайте будем делиться результатами
нашей работы, и они скажут сами за себя.
Я не собираюсь упрекать Пастернака в
том, что он прибегал к подстрочнику,
потому, что он постигал величайшую
грузинскую поэзию, и было бы кощунством
упрекать его. Я нежно отношусь к
подстрочникам. Мне кажется, что
подстрочник—это дитя, если можно так
сказать, которое беззащитно, оно
потеряло ту жизнь, в которой оно жило на
родном языке, и еще не определило новой
жизни. Пока это только дитя, с которым
можно сделать все, что угодно. И лишь
настоящее искусство поставит, направит,
усыновит это дитя, сделает его не только
своим ребенком, но отнесет ко всему миру,
чтобы весь мир принял его в свои объятия.
Я не позволю глумиться над этим
ребенком, не позволю сделать нечто
дурное, пусть дитя всегда будет
прекрасным.
Мне кажется, что есть еще один
обязательный прием перевода, это — одержимость. Я буду на
этом настаивать, и я говорю это не о себе,
а о других. Товарищи, которые принимают
участие в этом совещании, это люди,
вооруженные не только знанием своего
дела, но и своей способностью познать
поэзию по подстрочнику. В наших условиях
это обязательный технический прием,
необходимый для художественного
перевода. По подстрочнику только
истинный поэт может понять смысл
стихотворения.
Я все время говорю о поэзии, потому что
больше ее знаю, и я уверена, что только
настоящий поэт восстановит облик
стихотворения, как облик прекрасного
лица. Я ссылаюсь на себя не потому, что
считаю себя примером в работе
переводчика, просто я это больше знаю.
Следует говорить о том. что знаешь лучше,
о своем опыте, и я ссылаюсь на грузинскую
литературу не в ущерб другой литературе,
а опять-таки потому, что я ее больше знаю.
Я специально ограничила себя переводом
грузинской поэзии... Я хочу
сосредоточить себя на этом языке. Я
узнаю грузинские слова из тысячи других
слов, я настроила себя на это и думаю, что
это очень важно.
Мы говорим о пределах вольности
перевода. Я думаю, что математическим
способом не удастся вычислить должный
предел. Мы всегда можем говорить, что
можно сделать так или иначе, мы
добивались переводов точных и неточных,
и я знаю, что я делала. Я считаю, что
истинно точным перевод можно сделать
путем каких-то неточностей, потому что
потери при переводе с одного языка на
другой обязательно бывают. Мне никогда
не удавалось восстановить звучание
грузинских слов, я подчас специально
нарушала размер и строй грузинского
стихотворения, потому что то, что может
звучать в грузинском размере, не может
звучать в русском.
Опять-таки мне посчастливилось, я
переводила те стихи, которые казались мне прекрасными,
иначе я не могла бы работать над ними. Но
есть моменты, которые не подлежат
точному воспроизведению. Я уже говорила
когда-то, как я переводила стихи Симона
Чиковани. Там были вещи, которые я не
могла воспроизвести точно, потому что
при всем доверии к Симону Чиковани, при
огромной нежности к его поэзии, я знала,
что по-грузински это прекрасно, а по-русски
это не может так звучать. И при переводе
Галактиопа Табидзе «Тебе тринадцать лет»—эти
слова по-русски не звучат поэтически, и
по-русски нельзя это сказать таким
образом.
Я уважаю многих товарищей, которые
упрекали меня в вольности перевода
Галактиона Табидзе. Дело в том, что
Галактион принадлежит Грузии, но каждый
грузин не обязан знать, что может
угрожать Галактиону. То, что мы даем из
грузинской поэзии,—это очень много, но
не для Грузии, а для России. Я хочу
донести стихотворения Галактиона
Табидзе до русского читателя и считаю
это возможным Я не выкидывала ни строчки,
не проявляла небрежности, а если и делала
что-либо по-своему, то потому, что хотела
осветить Галактиона по-русски так, как
слышала по-грузински. Когда я хожу по
ночам в Тбилиси, мне кажется, что хожу
вместе с тенью Галактиона. Я знаю его
стихотворение, я знаю, в чем его смысл,
оно не чуждо логике, но оно все
держится на музыке, которую я не могу
точно воспроизвести,—не просите у меня
невозможного. Я могу только сказать
русскому читателю, что это звучит на
грузинском языке божественно. Я хочу,
чтобы русский читатель поверил мне на
слово, что Галактион — великий поэт.
Если бы для этого мне нужно было бы
танцевать, я бы танцевала.
Я говорила, что иногда сама работа
вынуждает нас к вольности. Когда я
переводила стихотворение Симона Чиковани «Девять дубов», я тревожилась
за него, я боялась, что это «дитя» не
станет любимым русским читателем, У нас
число девять не принято обыгрывать. Я
специально ввела в конце стихотворения
строки, которых не было у Чиковани. Я
хотела, чтобы читатель понял, что поэт
играет с ним, я хотела облегчить
русскому читателю восприятие этого
стихотворения.
Но есть какая-то точность, которую
нельзя нарушить, и для этой точности нам
нужно менять размер и находить пути,
которые должны оставить
неприкосновенными грузинские обороты
тогда, когда они звучат прекрасно и по-русски.
Иногда я переводила стихотворения
Симона Чиковани, Анны Каландадзе не
соответствующим размерам с тем, чтобы
передать ту сердечную сбивчивость,
которая там была, чтобы донести ее до
русского читателя.
В заключение я хочу сказать, что у нас
очень много работы. Но я считаю
грузинскую поэзию своей, и у меня не
будет покоя, пока я не переведу всего
того, что должна перевести.
Грузинская поэзия всегда будет
со
мной. Я буду служить искусству, которое
сближает нас, дарует нам счастье и всех
нас украшает.
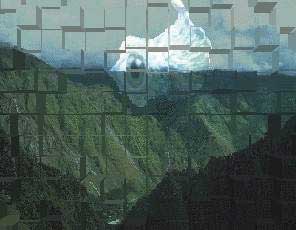 К ТАЙНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ
К ТАЙНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ
Было, бывало, будет и впредь, есть и
сейчас — сей, третий, час с начала дня, и
все же до его начала, потому что еще
длится непрочное мгновение июньской
ночи — уж вы-то его растянете, используете во всю
длину сновидений, вы, баловни,
счастливцы, не знающие, о чем идет речь.
Выглядит это так: большая, пустая,
нехорошо горячая тяжесть лба прячется в
ладони, и все это рушится, клонится к
столу. Озвучивается это так: «Я любил
этот труд превыше всякого другого труда...
я служил ему, как мог... но я изнемог...
неужели я навеки сослан на нежную
каторгу чужой души, чужой любви, чужого
представления обо всем, что есть?.. Дудки,
довольно...» И все это—чистосердечно, и
все это—ложь, друзья мои, потому что я не
умею, не желаю жить без этого, да и не
пробовала никогда. Но если вы и впрямь не
знаете, о чем идет речь, — да все о том же:
о таинственном, доблестном, безвыходно-счастливом
деле перевода — я расскажу вам, как это
начинается, как это для меня начиналось.
Вот—ты молод, толст, румян, собственную
неуязвимость принимаешь за ранимость,
застенчивость выдаешь за надменность, и,
украшенный всем этим, ты приезжаешь в иную
страну—назовем ее: Сакартвело,—благосклонно взираешь,
внимаешь, уезжаешь и понимаешь, что,
уехав, ты остался навсегда в капкане
нежности к ее говору, говорению,
приговариванью, к ее чужому, родимому языку,
загромоздившему твою гортань горой,
громом, горечью, виноградной гроздью
огромного, упоительного звука. Так и
будешь всю жизнь горевать по нему, по его
недостижимости для твоих губ и горла.
Речь идет о деле перевода, и пора бы уже
упомянуть какой-нибудь исчерпывающий,
все объясняющий термин, но мне неведомо
литературоведение, я не преуспела в нем,
не начать ли мне со слова «обреченность».
Обреченность — этому ремеслу, этому
языку, этому человеку — переводимому
тобой поэту, а ты и не знал, что он — твой
родимый брат, точно такой же, как ты, но
лучше, драгоценнее тебя, и вовсе не жаль
расточить, истратить, извести на него свою речь, жизнь и душу. Вот он сидит
рядом с тобой, вы говорите о пустяках,
любуясь друг другом, сходством,
братством, нерасторжимостью навеки, но
он сходит с крыльца, удаляется,
углубляется в снегопад, господи боже, не
тяжел ли этот снегопад его хрупким
плечам, его бедному пальто, в котором нет
нужды в стране Сакартвело, там в зимних
садах голубеют цветы иа, или фиалки, как
вам угодно. Бывало ли с вами то, что было
со мною: он всего лишь спускался с
крыльца, оборачивался, помахивал рукой,
не было в этом никакой
многозначительности, его звали Симон
Чиковани, я совершенно не умела без него
обходиться, да и не будет в этом никогда
нужды, он просто спускался с крыльца, но
я точно знала, что больше я его никогда
не увижу. С того снегопада, в который он
ушел, начался мой иной возраст, который
больнее, печальнее, но лучше молодости.
Этот возраст удобен для мастерства
перевода. Симон, Симон Иванович, любовь
моя, радость, благодарю, что меня во мне
меньше, чем вас, я вас переводила,
перевела — в себя и во что-то иное,
дальнейшее, чему и мой уход в снегопад
вовсе не помешает. Да вот вам и термин:
подстрочник. Вот как он
расшифровывается: стихотворение жило, ликовало, лепетало
в своем родном единственном языке, и вот
оно насильственно умерщвлено,
распластано перед тобой на столе —
нагое, бездыханное, беззащитное, оно —
подстрочник, ты — переводчик, теперь все
от тебя зависит: ты можешь причинить ему
грубый вред дальнейшей мертвости или
дать ему его же собственную,
принадлежащую ему по праву, вторую,
вовсе не лишнюю жизнь. И если ты не дашь
ему всего, чего оно просит: музыки,
утверждающей предмет его любви, свободы
в твоем языке — не меньшей, большей, чем
у тебя самого,—если ты не дашь, значит,—возьмешь,
значит,— ты и не переводчик вовсе, а
грабитель, отниматель чужого,
обкрадыватель человечества,
единственного и полноправного
владельца всех прекрасных
стихотворений и музык. А как ты все это
сделаешь, как ты вынудишь подстрочник
проговориться о тайне первоначального
звучания, как нйдешь точное
соответствие между драгоценной сутью и
новым звуком, - этого я не знаю...
ЖИЗНЬ ТИЦИАНА ДЛИТСЯ...
Выступление на вечере, посвященном
Тициану Табидзе, в ЦДЛ, 29.Х.1976 г.
Человек, написавший в стихах о том, что
он не слагает стихи, не пишет их, а сам
написан ими, как всегда, сказал правду.
Тициан Табидзе действительно являет
собою измышление поэзии, ее шедевр, в
гармонии объединяющий все достоинства
без единого изъяна. Он
отчетливо и прекрасно нарисован нами в
белом пространстве. Нам предъявлена
красота его черт, его доброта, его
неувядаемая гвоздика в петлице, и роза
на устах, которые никогда не открывались
для тщеты, для хулы или для вздора. Этот
человек словно желает показать нам,
каков должен быть и каков есть поэт в
человечестве. Он лишает нас раздумий о
совместимости гения и злодейства, он
убеждает нас в том, что гений есть
великодушие, благородство, доброта.
Сегодня много раз упоминалось
драгоценное имя Бориса Пастернака, и
вновь душа возвращается к нему, потому
что встреча двух этих людей,
замечательных не только потому, что речь
России и речь Грузии вновь с нежностью и
силой объединились, но потому, что их
жизнь, их торжественная и доблестная
дружба, оставляют нам на память о
человечестве, о нашей принадлежности к
человеческому роду, замечательный
документ, который говорит о том, что люди
все-таки прекрасны, и не следует винить
их в жестокости, а наоборот, нужно
дивиться их мужеству, долготерпению и
умению спасать друг друга.
Переписка Нины Табидзе и Пастернака
останется для грядущих поколений как
свидетельство величайшего напряжения
человеческой нравственности,
человечного ума. Меж бездной и бездной в
мироздании дует сквозняк и задувает то
одну, то другую свечу. Наташа Пастернак,
дорогая, вот здесь внук Тициана, вот
внуки Бориса Леонидовича Пастернака,
чьи таинственные прекрасные лица
обещают нам, что эта свеча не задута, что
свет ее будет длиться во времени. Может
быть, в чьей-нибудь бедной и скудной
жизни бывает так, что смерть является
самым существенным событием в судьбе
человека. У поэта—не то. Он тратит
мановение на краткую последнюю муку, и
потом становится вечным приливом к
нашему уму, способствующим нашему спасению. Жизнь Тициана
длится в его внуках, длится в
неиссякаемых гвоздиках, в цветниках
человечества, длится в каждом из нас, кто
расположен к добру, расположен к поэзии.
Два этих дома — обласкают еще многих;
дом Тициана в Тбилиси—все мы еще раз
увидим картины Пиросмани, пианино,
подаренное когда-то Борисам Пастернаком,
и дом в Переделкине—тоже будет
обязывать нас к доблести духа. Я прочту
два стихотворения— одно Тициана
Табидзе—«Маш гамарджвеба» по-грузински,—«Итак, да здравствует»:
|
Брат мой, для пенья пришли, не для
распрей,
для преклоненья колен пред
землею,
для восклицанья: — Прекрасная,
здравствуй,
жизнь моя, ты обожаема мною!
Кто там в Мухрани насытил марани
алою
влагой? Кем солнце ведомо,
чтоб в
осиянных долинах Арагви
зрела и
близилась алавердоба?
Кто-то другой и
умрет, не заметив,
смертью займется, как
будничным делом...
О, что мне делать с
величием этим
гор, обращающих карликов в
дэвов?
Господи, слишком велик
виноградник!
Проще в постылой чужбине
скитаться,
чем этой родины
невероятной видеть
красу и от слез
удержаться.
Где еще Грузия—Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть и крайняя
крайность!
Что понукает движение крови
в
жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?
Если рожден я — рожден не на время,
а
навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу и бессмертия бремя
не
утомит меня... Жизнь моя, здравствуй!
|
|
И второе - мое:
|
Сны о Грузии — вот радость!
И под утро
так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу—
в
золотом Свети-Цховели
ставлю бедную
свечу.
Малым камушкам во Мцхете
воздаю хвалу
и честь.
Господи, пусть будет это
вечно
так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будет в новость
и
колдует надо мной
милой родины
суровость,
нежность родины чужой.
Что же, дважды будем живы —
двух
неимоверных стран
речь и речь
нерасторжимы,
как Борис и Тициан.
|
| |
оформление и
коллажи Марины Кариной
niw 20.03.03

|
|
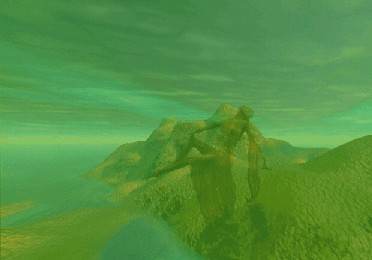
 СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...
СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПЕРЕВОДУ...  ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА
ГРУЗИНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВСЕГДА 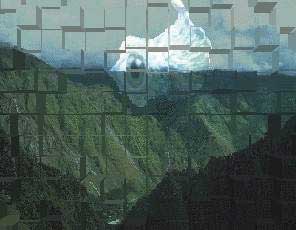 К ТАЙНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ
К ТАЙНЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ
