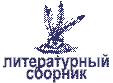|
Я много лет работал
библиографом и почти все эти годы
боролся с уродливым словом "трайбализм".
Его ввели люди, не думающие об истории,
отразившейся в языке, об устоявшейся
семье слов: триба, трибун, трибуна. В нее
естественно входит "трибализм", тем
более, что он существует и во
франкоязычной Черной Африке и
произносится там именно так, а не по-английски.
Убедить мне, конечно, никого не удалось,
мода на американский стандарт возникла
давно, и африканисты бежали впереди
прогресса.
Этот случай, сам по себе
ничтожный, натолкнул меня на мысли о
более глубокой порче, о разрушении
традиционных связей русской культуры.
Русскую культуру петербургского
периода можно сравнить с ковровой
мастерской, где в каждом коврике
вплетены европейские нити. Выдернете их
- и все рассыплется. Во всем значительном,
что возникло в советские годы, что
пустило корни в глубину, пробиваясь
сквозь поверхностный слой, - те же нити.
Мастерская русской культуры все
последние века сплетала вместе то, что в
Европе существовало отдельно, и
выходили русские ковры, но они в то же
время - европейские. Это традиция
Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова,
поэзии золотого и серебряного века. Я
глубоко люблю византийско-русскую икону,
но ее надо разгадывать, учиться понимать
ее язык, и мне это не сразу далось, а язык
Пушкина или Достоевского - тот самый, на
котором мы говорим и думаем, язык в самом
широком смысле слова, круг понятий и
образов, без подготовки доходящих до
сердца.
Первый национальный
гений, которого чтили и западники, и
почвенники, уносился воображением то во
Францию рыцарских времен, то в Испанию, в
Англию, в Вену Моцарта и Сальери,
вспоминал Данте и Тассо. У Достоевского
общение с Европой осложнено полемикой
1865-1875 гг. (я к ней еще вернусь), но оно
сказывается в самых глубоких пластах.
Страстно читая Достоевского в юности, я
не замечал, что главные герои "пятерицы"
его больших романов в решающие минуты
как бы встают перед воротами ада,
чистилища и рая; и осознав это (около 1970 г,),
не сразу понял, что Достоевский
подхватил замысел Гоголя создать
русскую "Божественную комедию".
Архитектурно четкое деление на ад,
чистилище и рай только просвечивает в
иные мгновения, сквозь вихри,
переворачивающие пласты быта, но его
можно разглядеть, когда Раскольников
сталкивается то с Соней (посланницей
неба), то со Свидригайловым. И примерно
так же Иван Карамазов беседует то с
Алешей, то со Смердяковым и чертом. В
менее четкой форме та же схема выдержана
в "Подростке", в "Идиоте" и "Бесах"
она видоизменена, но сохраняется
ориентация центрального героя по
загробному царству, к которому его несет.
Мне возражали, что
образ чистилища невозможен для
православной мысли Достоевского. Однако
православие не помешало Гоголю
заимствовать у Данте трех частное
деление. И Гоголь, и Достоевский
задумывали и осуществляли свои планы
как литераторы, а не богословы, в поле
влияния обрусевшей западной
цивилизации. Даже недоучившийся
армейский офицер Митя Карамазов
цитирует наизусть Шиллера и видит
свою душу расколотой между идеалом
Мадонны и идеалом содомским, то есть
вполне в духе западного романтизма. Не
случайно Митя говорит о Мадонне, а не о
Богородице. Слово Мадонна сразу
переносит нас на Запад, в эпоху
рыцарских турниров; и так же не случайно
Пушкин, влюбленный в Наталью Николаевну,
пишет: "моя Мадонна, чистейшей
прелести чистейший образец". Он никак
не мог бы сказать: "моя Богородица,
образец прелести". Прелестная
Богородица -немыслимое сочетание слов. В
том контексте, к которому тяготеет
калька с греческого "Теотокос",
прелесть - это прельщение, соблазн, и
даже пылинка его не может коснуться
Матери Божьей.
Достоевский в иные
периоды своего развития доходил до
ненависти к Западу (и кажется, больше
всего ко Франции), но это была любовь-ненависть,
связанная с потребностью преодолеть
излишек зависимости, создать европейско-русскую
форму романа, европейско-русскую форму
поведения. Об этом прекрасно говорит
Алексей Иванович, один из персонажей "Игрока":
"Я, пожалуй, и достойный человек, а
поставить себя с достоинством не умею.
Вы понимаете, что так может быть? Да все
русские таковы, и знаете почему: потому
что русские слишком богато и
многосторонне одарены, чтобы скоро
приискать себе приличную форму. Тут дело
в форме. Большей частью мы, русские, так
богато одарены, что для приличной формы
нам нужна гениальность. Ну, а
гениальности-то всего чаще и не бывает,
потому что она и вообще редко бывает. Это
только у французов и, пожалуй, у
некоторых других европейцев так хорошо
определилась форма, что можно глядеть с
чрезвычайным достоинством и быть самым
недостойным человеком. Оттого так много
форма у них и значит".
Достоевский хорошо
знал, от чего он отталкивается. В одном
только письме брату Михаилу из
инженерного корпуса, 1 января 1840г., он со
страстью и с редкой для
восемнадцатилетнего юноши глубиной
пишет о Гомере, Шекспире, Шиллере,
Гофмане, Байроне, Гюго, Гёте и в
заключение отчитывает брата,
повторившего, не читая,
пренебрежительное мнение о "ложном"
классицизме: "У Расина нет поэзии? У
Расина, пламенного, страстного,
влюбленного в свои идеалы, у него нет
поэзии?.. Да читал ли ты "Andromaque" а,
брат? Читал ли ты "Iphigenie"; неужели ты
скажешь, что это не прелестно. Разве
Ахилл Расина не гомеровский? Расин и
обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у
него женщины!.. Ты Бог знает что будешь,
если не скажешь, что это не высшая,
чистая природа и поэзия. Ведь это
шекспировский очерк, хотя статуя из
гипса, а не из мрамора.
Теперь о Корнеле... Да
знаешь ли ты. что он по гигантским
характерам, духу романтизма - почти
Шекспир... Да читал ли ты "Cinna". Перед
этим божественным очерком Октавия,
перед которым (срезан угол письма;
видимо -бледнеет) Карл Мор, Фиеско, Тель,
Дон Карлос, Шекспиру честь принесло бы
это... Да читал ли ты "Ногасе". Разве
у Гомера найдешь такие характеры... Читал
ли ты "Le Cid". Прочти и пади в прах
перед Корнелем..."
Эти впечатления юности
иногда погружались в глубину памяти, но
никогда не были забыты. И в шестидесятые
годы, в полемике с Добролюбовым,
Достоевский с иронией напоминает
молодому радикалу, как заново
воспринимались трагедии Корнеля в эпоху
революции.
Я подробно пишу об этом
потому, что каждый раз удивляюсь, читая
письма, насколько далеко заходила
захваченность Достоевского "прекрасным
и высоким". Не только у Гюго или Жорж
Занд, но даже у Корнеля! Этого не
зачеркнула полемика с риторикой,
вошедшей в плоть европейской культуры,
особенно французской. Все почти
инвективы укладываются в десятилетие
становления "большого" романа
Достоевского, полемического
переосмысления европейских образцов. С
1875 г. инвективы прекращаются,
Достоевский вспоминает, что перекраивал
он то, что дал ему Запад, и с
благодарностью вспоминает своих
учителей.
Иногда (у других
писателей) борьба с риторикой опирается
на антириторическую линию самой
французской литературы: Толстой,
работая над "Войной и миром", с
сочувствием прочел описание битвы в "Пармском
монастыре" Стендаля. Пастернак, в
письме Ольге Фрейденберг (18.Х.1933),
признается в своей неспособности писать
о самом главном так просто, как это делал
Паскаль: "Тут-то и пролегает
водораздел между гением и человеком
средних способностей. Первый именно не
боится этого холода (в разговоре о
бесконечном. - Г.П.), и только. И тогда,
вопреки Пруткову, Паскаль схватывает
необъятное и только и делает, что пишет
принципиально о принципах и набрасывает
бесконечность бисернее и
непринужденнее, чем Бунин какую-нибудь
осень".
Одно из возможных
определений русского гения - это цельный
образ того, что разбросано было в
национальных ликах Европы, своего рода
новая рублевская "Троица", где
твердо очерченные национальные
физиономии стали текучими ипостасями
Целого. Или, если раскрыть смысл
греческого "гипостазис",
подстановками, за каждой из которых -
текучесть целого, непременно с
прописной , как в "Сне смешного
человека", где слово "Целое"
граничит по смыслу с со словами "Абсолют"
и "Бог". На закате петербургского
периода Блок высказал это тяготение к
цельности в своих стихах:
Нам внятно все: и
острый галльский смысл
И сумрачный
германский гений...
По частям здесь все
неточно. Гений Германии был и в
методическом рационализме; "острый
галльский смысл" никак не исчерпывает
Паскаля, Сент-Экзюпери, Габриэля Марселя.
И "внятно все" - гипербола; в каждой
национальной культуре есть заповедные
углы, недоступные постороннему. Но
правда, что образованному русскому
петербургского периода германская
культура более открыта, чем французу, а
французская - чем немцу. Для немецкого
романтика вставал вопрос: Корнель или
Шекспир? Для Достоевского Шекспир и
Корнель стоят рядом. Петербургский
период постоянно пытался выстроить из
Европы что-то единое; тогда как
собственно европейские культуры,
перекликаясь друг с другом, оставались
сами по себе. Единство Европы -единство
диалога или, как я это иногда называл,
концерта наций -никогда не ощущалось на
Западе с такой остротой, как в России.
Можно заметить, что
французское и немецкое, английское и
итальянское сливается в европейском при
любом взгляде со стороны. Единство
западного "культурного круга", "цивилизации"
очевидно для индийца, японца,
мусульманина. Но индиец или мусульманин
остается при этом индийцем и
мусульманином, он не становится неким
синтетическим европейцем (или, по
крайней мере, реже, менее интенсивно
становится им). Между тем Версилов из
романа Достоевского "Подросток"
так именно думает о себе; он определяет
"тысячу" подобных себе русских
дворян как единственных носителей
общего духа Европы, Европы как целого.
Я просто не представляю
себе России без усилия к синтезу культур,
на перекрестке которых она складывалась
- и в древности, и в новое время. Рублев
черпал из византийского колодца, гении
XIX века - из европейских источников. А
когда Россия замыкалась в себе - она
духовно скудела: и в старомосковский
период (XVI-XVII вв.), и в новомосковский (советский).
Сейчас Россия снова
открылась - но вместо реевропеизации
происходит нечто другое: американизация.
Это плохо не потому, что плоха Америка.
Напротив, Соединенные Штаты - великая
страна. Но это одна страна, очень большая,
очень сильная в экономике и С М И, и все
же только один голос в западном (то есть
в европейском) концерте. Это не
культурный круг, в который можно войти,
оставаясь самим собой. Американизация -
это подчинение всех культур одному
глобальному стандарту. Нечто подобное
происходило в XVII- XVIIIвв., когда все страны
Европы подчинялись нормам французского
классицизма; кончилось это
романтическим бунтом. Нынешний
антиамериканский бунт еще более
оправдан.
Стандарт классицизма
был, по крайней мере, основан на великих
образцах, выдержавших испытание трех
веков. Новый глобальный стандарт
строится на уровне балагана. Стихи Эмили
Дикиисон, рассказы Дэвида Селинджера не
поддаются тиражированию, не находят
своего места на голубом экране. Хорошие
фильмы иногда попадают в поток передач,
но они тонут в массе "остросюжетных"
боевиков. Карл Поппер, известный своей
книгой "Открытое общество", писал
незадолго до смерти, что современная
теле-, кино- продукция, сдобренная
лошадиными дозами насилия и секса,
способна погубить Запад. Влияние
телевизора он сравнивал с влиянием отца-алкоголика
на семью. И можно сказать, что именно
против этого восстал Иран. Антишахская,
антизападная революция началась с
поджога кинотеатра, где
демонстрировался американский фильм.
Как бы ни были богаты
США, это маргинальная страна
европейской цивилизации со своими
особенностями, не всегда хорошими. В
частности, на Америку наложило глубокий
отпечаток рабство негров, совершенно
немыслимое в Европе XVIII и XIX вв.
Освобожденные негры стали частью
американской нации; но их христианство -
это афроамериканское христианство;
а в музыке африканские ритмы совершенно
покорили засушенных пуритан, и С М И,
созданные западным техническим умом,
стали одним из самых сильных факторов
попятного движения всего Запада - к
оргиастическим племенным культам.
Другая местная
особенность США - укороченность истории.
Ни в одной из стран Европы новое и
посленовое время не вырывалось до такой
степени из своих связей с прошлым, с "дивным
меандром" истории. Я имею в виду 24-й
сонет из 1 части "Сонетов к Орфею"
Рильке:
...Мы так давно обогнали
медлящих проводников в вечность, и так
одиноки рядом с друг с другом, друг друга
не зная. Путь наш не вьется, как тропки
лесов и потоки, -дивным меандром. Он -
краткость, прямая. Так лишь машина
вершит взлет свой искусственнокрылый.
Мы ж как пловцы среди волн, тратим
последние силы.
(Перевод З. Миркиной).
В исторической памяти
Америки( в той мере, в которой она
перестает чувствовать себя частью
Европы) не отпечатался ни один
законченный цикл развития, чередования
центробежных и центростремительных
эпох. Если очень грубо, очень коротко
описать этот "меандр", то за
развитием вширь, за ростом сложности, за
погружением в мир ветвящихся наук
следует эпоха восстановления цельности.
Сент-Экзюпери образно выразил ее задачу:
связать "дробность" "божественным
узлом". Габриель Марсель (1)
воспользовался другой метафорой. Он
противопоставил вспомогательные
глаголы "иметь" и "быть" (эти
термины впоследствии принял и Эрих
Фромм). "Быть" - целостно, неделимо,
нельзя быть чуточку живым, чуточку
беременной. Напротив, "иметь" легко
делится и подсчитывается. Есть эпохи с
установкой на рост богатства и эпохи
восстановления целостности бытия. Наша
"посленовая" культура - на одном из
исторических переломов, изгибов "меандра",
наподобие пережитого человечеством 2000
лет тому назад. Установке "вперед" (по
плоскости, по поверхности бытия) снова
противопоставляется "ввысь".
Чеслав Милош, которому
принадлежит это противопоставление "вперед"
- "ввысь", особенно подчеркнул
разрушительную силу марксистского "вперед"
(к утопии). Но разрушительна всякая
революция, и в технике, и в экономике, и в
информатике. Даже если непосредственно
революция прагматична, приносит явную
пользу - в конечном счете открывается
ящик Пандоры и каждая решенная проблема
создает две новых. Интеллектуальной
реакцией на кризисы XX века был отказ "посленовой"
мысли от стремления к чему бы то ни было,
от всякого энтузиазма. Однако инерция
общественных механизмов продолжает
свое центробежное движение - по
касательной, направленной в бездну.
Духовные опасности не поддаются
подсчету, но экологические подсчитаны.
Если бы весь мир достиг американского
уровня потребления, следствием была бы
катастрофа. Нужен поворот, а для
поворота -глубокая переоценка ценностей,
восстановление старого приоритета "ввысь"
над "вперед". Америке это труднее,
чем любой другой стране.
У Америки нет
собственного средневекового прошлого с
его чувством духовной вертикали, с
пафосом высоты и глубины. Какая-то часть
элиты компенсирует это, пытаясь внести в
свою жизнь восточные учения; но в
массовом сознании установка на прогресс
не поколеблена. Очередная революция в
информатике вызвала здесь инфантильный
энтузиазм, стала как бы второй
американской революцией (2). Правда, нет
недостатка и в критических голосах, и
термин "засорение нравственной среды"
создан группой американских
журналистов. Но не они делают погоду.
Оглядываясь назад,
можно заметить, что каждая революция в
информатике ставила под угрозу
целостность культуры. Кризисом был уже
переход от устного сообщения к книге.
Книга позволила холодно анализировать
предание, находить в нем неувязки,
противоречия, подтолкнула рождение
философии - и поверхностного
просвещения. Книга разрушала племенные
предания и открыла дорогу новым
откровениям, сразу же записанным в
особую Книгу ( с прописной), Книгу Книг;
авторитет этой священной Книги стал
выходом из хаоса многих книг. Но
средневековый порядок взорвало
книгопечатание. Оно дало книгу в руки
каждому, разрушило монополию церкви на
толкование Книги и проложило дорогу
новым течениям - и в христианстве (пртестантизм),
и вне его (гуманизм), а в итоге -
компромиссу гуманизированного
христианства с христианизированным
гуманизмом. Сегодня телевидение
оттеснило на задворки всякую книгу.
Продолжая эту тенденцию но прямой линии,
можно вступить в блистающий новый мир
Хаксли, где только дикарь еще читает
Шекспира.
Не так давно в
Швейцарии я присутствовал на лекции, где
проблема тождества с собой раскрывалась
с помощью картинок. Туз червей изображал
человеческое сердце, другой туз - сердце
Христа. Я спросил лектора, почему он
выбрал такой метод. Мне вежливо
объяснили, что молодежь, выросшая около
телевизора, так лучше понимает. У меня в
горле остался вопрос: а что, собственно,
она понимает?
Этот вопрос, видимо, не
вставал перед Мак-Люэном, встретившим
восторгом рождение нового мира. Ему
казалось, что достигнут идеал
Джефферсона, идеал демократии - без
разрыва между элитой и массой, общество
равно информированных и распотешенных
граждан. Однако разрыв между элитой и
массой скорее углубился. Общество
разделилось на "видеотов" ( в Европе
их уже сравнивали с идиотами) и
упорствующих читателей. При этом
особенно упорны французские читатели.
Новая "гиперреальность"
практически создается, главным образом,
американскими С М И, и США - образцовая
страна "посленового времени"; а
осознание и критика постмодернизма -
дело, главным образом, французов (подобное
разделение труда было в XVIII в. между
Англией и Францией в практике и
идеологии Просвещения).
Деконструктивизм можно понять как
движение читателей, пытающихся свести
на нет рычаги, с помощью которых ими
пытаются управлять. Под огонь попадает
вся традиция логики, грамматики и т.п.,
начиная с древнейших времен, но наиболее
значима эта критика для современности,
когда политически свободными
гражданами манипулируют с голубого
экрана. Один из ведущих мыслителей
постмодернизма, Жан Бодрийяр, приходит к
выводу, что посленовое время не
преодолевает пороки Нового времени, а
фатально углубляет их (3).
Философия французских
постмодернистов, завоевавшая внимание
всего мира, с блеском разрушает власть
мертвой буквы знаковых конструкций,
поработивших живую личность, - но в ней
нет того духа, во имя которого восстал
когда-то апостол Павел, один из первых
"деконструктивистов" в истории
человечества. Я чувствую этот дух скорее
в притчах "Цитадели".
Постмодернистская философия остается
рационалистической в своей критике
рационализма, и вслед за тем, как
рационализм нового времени, шаг за шагом,
разрушил образ Бога, посленовый
рационализм разрушает образ личности,
деконструирует личность, сводит ее к
точке приложения внеличных сил (такой
результат предвидел, в одном из своих
стихотворений, Унамуно). Вольтерьянская
критика религиозной одержимости
доводится до деконструкции всякого
пафоса. Ирония посленовой мысли
обесценивает, обезвреживает любые идеи,
не дает им поработить себя. Но эта защита
личности отрезает ее от собственной
глубины, путь к которой записан в
предании, и парализует любое движение,
направленное к выходу из бездуховности.
Скептицизм Декарта
отсекал сомнительное во имя
несомненного, допускающего строгое
определение и точный подсчет. Это
приводило к некоторым важным потерям, но
одновременно прокладывало дорогу
великим приобретениям. Терялся подступ
к иррациональному в культуре,
открывались огромные возможности для
точных наук. Посленовый скептицизм
критикует достижения картезианства, но
я не вижу новых возможностей, которые он
открывает. Он ближе к скептицизму
поздней античности, успокаивавшему ум
эллинов в ожидании прихода варваров. Он
увековечивает состояние дрейфа,
состояние духовной апатии. Если бы вновь
пришел Христос, он услышал бы: "Что
есть истина?"
Постмодернизм не
распинает Христа, не сожжет Яна Гуса или
Джордано Бруно, он просто пожимает
плечами в ответ на Нагорную проповедь.
Он не верит, что за высокими словами есть
созерцание жизни как сияющего целого
сквозь все мерзости и муки, опыт жизни
Иова после встречи с Богом.
Все великие идеи прошлого становятся
игральными картами, которые можно
свободно перекладывать, забавляясь
игрой, но не придавая ей слишком
большого значения. Что-то вроде этого
предсказал Герман Гессе: масса
довольствуется фельетонами, элита
играет в бисер. Многим ничего больше не
нужно. Но Йозеф Кнехт, герой романа,
почувствовал пустоту игры и покончил с
собой.
Однако мысль Бодрийяра,
Деррида, Фуко не сводится к своему итогу.
Она может стать пошлой, как
вольтерьянство Федора Павловича
Карамазова, но способна и вдохновить
своим пафосом полемики с пафосом, своим
духом свободы вопреки деконструкции
символов духа. Она захватывает именно
тем, что концы в ней не сводятся с
концами, она плодотворна так же, как в XIX
веке мысль Сен-Симона и Фурье, а еще
раньше - мысль Вольтера, Дидро, Руссо.
Есть какая-то
преемственность французской мысли в
русской культуре, преемственность
восстания против королей и церкви,
деспотии богатства, и в нашем веке -
деспотизма С М И. Недавно я хоронил
своего однокашника, одного из русских
западников, веселого бражника и
страстного рационалиста, автора
нескольких хороших книг. Во время
застолий он непременно провозглашал
тост за здоровье ее величества королевы
Елизаветы II, а на похоронах, по его
неоднократно выраженной воле, была
исполнена Марсельеза. Это сочетание
покажется гротеском для ума, в котором
Елизавета II и Марсельеза находятся в
разных углах. Но мой приятель был по-своему
логичен. Его вдохновляло то, что
утвердило европейское чувство свободы и
достоинства личности, безразлично - на
английский или французский манер.
Версилов - не последняя попытка синтеза
западных начал. И в этом синтезе
присутствует французская струя.
Мне хочется вернуться к
формуле Блока - про острый галльский
смысл и сумрачный германский гений. Она
точна не в описании Европы, а в том, что
нам нужно от Европы. По крайней мере,
нужно одному из типов русской культуры,
тому именно, к которому меня с юности
влекло. В 16 лет меня одновременно
поразила бездна бесконечности и фраза
Стендаля: стиль, как прозрачный лак, не
должен скрывать окраску, то есть мыслей
и чувств, им выражаемых. Профессор Жорж
Нива был удивлен влиянием Стендаля на
мое развитие. Я пытался объяснить, что
требование ясности слога нужно было и
мне, и многим другим как противовес "сумрачному
гению" ( и германскому, и восточному, и
нашему собственному). Прагматизм
полезен в экономике, но он ничего не дает
русской духовной культуре; рационализм
нужен ей в паре с его противоположностью
(как у Паскаля, которого я в юности не
знал и воспринял его чувство бездны
через Тютчева).
Можно высказать все это
в терминах Синявского: русская
текучесть (о которой он прекрасно
написал в "Голосе из хора") грозит
стать аморфностью и требует своего
противовеса, своего дополнения в
рельефности мысли. Которую можно найти
скорее во Франции, чем в Америке. Я думаю,
что Пушкин очень многим был обязан
французской ясности, и что в дальнейшем,
в процессе расширения и разветвления
русской культуры, эта ясность не раз
терялась. Сегодня я ищу ее вновь в
лаконичной форме эссе, восходящей к
Монтеню и Паскалю. Она еще недостаточно
укоренилась в России и только понемногу
занимает подобающее ей место. Некоторые
журналы до сих пор не признают этого
жанра, в других мне приходится иметь
дело с редактором отдела публицистики.
Между тем, в наше изменчивое время
именно эссе дает возможность
набрасывать эскизы теорий, не выдавая их
за всеобъемлющие системы и поверяя
логику притчей, а притчу (или сказку)
раскрывая в простых и ясных понятиях. В
эти поиски снова вплетается французская
нить.
|